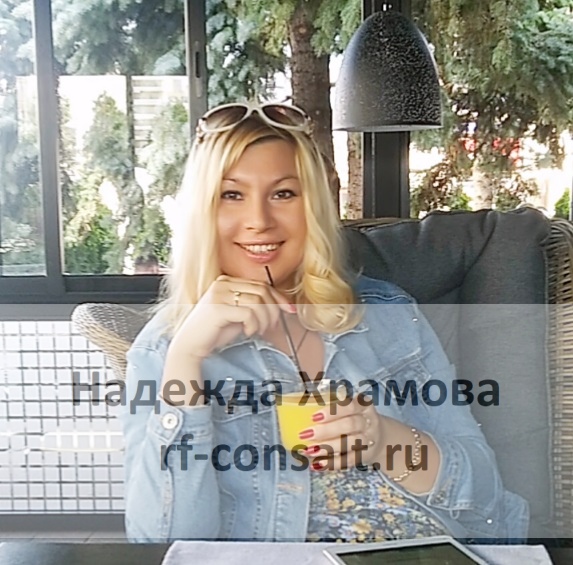Болдино. Усадьба А.С. Пушкина , Нижегородская область (читать текст полностью)

Большое Болдино — село в Нижегородской области, административный центр Большеболдинского района и Большеболдинского сельсовета. Большое Болдино и прилегающие земли на протяжении четырёх веков принадлежали роду Пушкиных — одному из древнейших дворянских родов России. В настоящее время историческая часть села является памятником культуры федерального значения.
 В древности местность, на которой расположено современное Большое Болдино, была заселена мордовскими племенами, занимавшихся собирательством мёда диких пчёл — бортничеством. Это объясняет древнее название села — Забортники (село за бортным лесом), под которым оно впервые упоминается в писцовых документах 1585 года.
В древности местность, на которой расположено современное Большое Болдино, была заселена мордовскими племенами, занимавшихся собирательством мёда диких пчёл — бортничеством. Это объясняет древнее название села — Забортники (село за бортным лесом), под которым оно впервые упоминается в писцовых документах 1585 года.
Существует несколько версий происхождения современного названия села. Одна из версий приписывает названию татарское происхождение — Ель Болдино. Впоследствии в документах это название стало употребляться в сокращённом написании: Еболдино. По другой версии, название происходит от собственного мордовского имени Болдай. В исторических документах XVII века Болдино именуется сначала как деревня: «…в Арзамасском уезде деревня Еболдина» (1612 года), но уже в 1619 году оно называется селом: «…в Арзамасском [уезде] в Залесском стану за Шатиловскими вороты село Болдино, что было деревня Забортники, под большим мордовским чёрным лесом». С этого времени и далее село называлось просто Болдино, а затем — Большое Болдино.
В течение нескольких веков село Большое Болдино принадлежало Пушкиным.
А.С.Пушкин
Большое Болдино впервые упоминается в архивных документах, датированных 1585 годом, где указано, что село Болдино Арзамасского уезда числится за воеводой и окольничим Евстафием Михайловичем Пушкиным. Евстафий Михайлович отличился при обороне Смоленска от нашествия литовцев в 1580 году, вёл трудные дипломатические переговоры с польским королём Стефаном Баторием. За эти заслуги Пушкин получил село в качестве поместного владения от Ивана Грозного.

В 1612 году Болдино было передано Ивану Фёдоровичу Пушкину, участнику Нижегородского ополчения Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина. После смерти бездетного Ивана Фёдоровича царь Михаил Фёдорович в 1619 году жаловал Болдино брату покойного, Фёдору Фёдоровичу Пушкину (по прозванию Сухорук), проявившему себя при обороне Москвы от войск польского короля Владислава IV.
В областном архиве хранится рукописная выписка из писцовой книги 1621—1623 годов Арзамасского уезда, среди селений которого значится и Большое Болдино:
| Село Болдино на речке на Азанке что была деревня Забортники <...> В том же селе за Федором Федоровым сыном Пушкиным по Государеве царе и великого князя Михаила Федоровича всеа Руси жалованной вотчинной грамоте, что дана ему за Московское осадное сидение 12-го году <...> вотчинников приказчик Мишка Фёдоров да крестьяне Ивашко Микифоров <...> да двадцать дворов крестьянских да двадцать четыре двора бобыльских, а людей в крестьянских и бобыльских дворах сорок пять человек. Пашни вотчинников давдцать пять чети да крестьянские пашни восемь чети да перелогу шестьдесят семь чети и обоево пашни и перелогу сто чети в поле а вдву потому ж. Земля добра. Сена меж пол и по заполью и по вражкам и по речке Азанке по обе стороны четыреста копён. |
Преобладание бобыльских дворов над крестьянскими говорит о том, что в то далёкое время земледелие в жизни болдинцев было далеко не главным, хотя земля и считалась «доброй». Больше половины сельчан составляли бобыли, оторванные от земли и занимающиеся ремеслом, бортничеством и охотой.

О границах болдинского имени Пушкиных в XVII веке говорит копия с отказной книги на «движимое и недвижимое имение» Елизаветы Львовны Сонцовой, урождённой Пушкиной:
| Межа Фёдора Федорова сына Пушкина вотчинной земли села Болдина от Алаторского усаду, подле чёрной лес до старого селища Болдина, подле чёрной лес до речки Мокшандейки, а Мокшандейкою вниз до речки Азанки, а речкою Азанкою вниз до устья речки Жималейки, а речкою Жималейкою вверх до песочного врага, врагом по чёрному лесу до Помск Поималей враг, а по-русски ольховый враг, а врагом до речки Азанке ж вниз по Азанке и по тем урочищам по правую сторону земля Алаторского уезду села Болдина, а по левую сторону земля Арзамасского уезду. |

В 1718 году Болдино перешло во владение прадеду поэта, Александру Петровичу Пушкину, по духовному завещанию своего двоюродного дяди. С 1741 до 1790 года болдинским имением владел Лев Александрович Пушкин — дед поэта. Несмотря на то, что хозяин имения жил в Москве, нижегородская вотчина в это время расширилась и окрепла.
После смерти Льва Александровича болдинское имение, которое, кроме самого Болдина включало деревню Малое Болдино и сельцо Кистенево, перешло к его детям от двух браков. Часть наследства получил отец поэта Сергей Львович, которому по разделу с братом Василием Львовичем досталась половина села Болдина с новой усадьбой. Позже Сергею Львовичу отошло ещё и Кистенёво, часть из которого он выделил позднее сыну Александру.

В 1830-х годах село трижды посетил А. С. Пушкин. Период предсвадебного затворничества осенью 1830 года известен как болдинская осень — наиболее продуктивная творческая пора в жизни поэта. Пребывание в имении из-за объявленного холерного карантина совпало с подготовкой к долгожданной женитьбе на Наталье Гончаровой. За это время Пушкиным завершена работа над «Евгением Онегиным», циклами «Повести Белкина» и «Маленькие трагедии», написаны: стихотворная повесть (поэма) «Домик в Коломне», лирические стихотворения («Бесы», «Безумных лет угасшее веселье…», «Рифма», «На перевод Илиады», «Труд», «Прощанье», «Заклинание», «Стихи, сочинённые ночью во время бессонницы», «Два чувства дивно близки нам…» — всего около тридцати). Во вторую осень в Болдино, в октябре 1833 года, поэтом были написаны «Медный всадник», «Анджело», «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Пиковая дама» и ряд стихотворений, а также закончена «История Пугачёва». Осенью 1834 года Пушкин снова довольно долго прожил в Болдино, но написал всего одно произведение, пусть и значимое: это была «Сказка о золотом петушке».

Последним владельцем села из рода Пушкиных был Лев Анатольевич, внучатый племянник поэта. В 1911 году болдинская усадьба была приобретена государством, на основании решения совета министров «О приобретении в собственность государства за 30 тысяч рублей, принадлежащего дворянам Пушкиным родового имения при селе Болдино Лукояновского уезда Нижегородской губернии…».
После революции в главном доме усадьбы была открыта четырёхлетняя школа, в вотчинной конторе до 1945 года работал детский сад. Усадебный парк пришёл в запустение, и в 1930-х годах неоднократно поднимался вопрос о создании Музея-заповедника. В 1937 году, в день столетия со дня смерти великого поэта, в Болдино была установлена мемориальная доска на барском доме. 20 июня 1944 года на заседании бюро Горьковского обкома ВКП(б) впервые рассматривался вопрос о реставрации пушкинского парка и организации Музея в селе. Наконец, в год 150-летия со дня рождения А. С. Пушкина, 18 июня 1949 года, в Болдино состоялось торжественное открытие Музея. На протяжении последующих лет продолжалась работа по развитию и благоустройству музея-заповедника. В 1973—1974 годах в Горьковской области широко отмечалось 175-летие со дня рождения поэта.
В 1980-1990 годах XX века усадебный комплекс был полностью восстановлен. На исторических местах снова появились барская кухня, конюшня с каретником и амбаром, людская, баня. В этих строениях открыты выставки и экспозиции этнографического характера. К 200-летию со дня рождения Пушкина в Болдино восстановлена каменная церковь Успения. За два года до этого был открыт детский музей пушкинских сказок.
F/C
А.С.Пушкин."Осень".1833г.
I
Октябрь уж наступил — уж роща отряхает
Последние листы с нагих своих ветвей;
Дохнул осенний хлад — дорога промерзает.
Журча еще бежит за мельницу ручей,
Но пруд уже застыл; сосед мой поспешает
В отъезжие поля с охотою своей,
И страждут озими от бешеной забавы,
И будит лай собак уснувшие дубравы.
II
Теперь моя пора: я не люблю весны;
Скучна мне оттепель; вонь, грязь — весной я болен;
Кровь бродит; чувства, ум тоскою стеснены.
Суровою зимой я более доволен,
Люблю ее снега; в присутствии луны
Как легкий бег саней с подругой быстр и волен,
Когда под соболем, согрета и свежа,
Она вам руку жмет, пылая и дрожа!
III
Как весело, обув железом острым ноги,
Скользить по зеркалу стоячих, ровных рек!
А зимних праздников блестящие тревоги?..
Но надо знать и честь; полгода снег да снег,
Ведь это наконец и жителю берлоги,
Медведю, надоест. Нельзя же целый век
Кататься нам в санях с Армидами младыми
Иль киснуть у печей за стеклами двойными.
IV
Ох, лето красное! любил бы я тебя,
Когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи.
Ты, все душевные способности губя,
Нас мучишь; как поля, мы страждем от засухи;
Лишь как бы напоить, да освежить себя —
Иной в нас мысли нет, и жаль зимы старухи,
И, проводив ее блинами и вином,
Поминки ей творим мороженым и льдом.
V
Дни поздней осени бранят обыкновенно,
Но мне она мила, читатель дорогой,
Красою тихою, блистающей смиренно.
Так нелюбимое дитя в семье родной
К себе меня влечет. Сказать вам откровенно,
Из годовых времен я рад лишь ей одной,
В ней много доброго; любовник не тщеславный,
Я нечто в ней нашел мечтою своенравной.
VI
Как это объяснить? Мне нравится она,
Как, вероятно, вам чахоточная дева
Порою нравится. На смерть осуждена,
Бедняжка клонится без ропота, без гнева.
Улыбка на устах увянувших видна;
Могильной пропасти она не слышит зева;
Играет на лице еще багровый цвет.
Она жива еще сегодня, завтра нет.
VII
Унылая пора! очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдаленные седой зимы угрозы.
VIII
И с каждой осенью я расцветаю вновь;
Здоровью моему полезен русской холод;
К привычкам бытия вновь чувствую любовь:
Чредой слетает сон, чредой находит голод;
Легко и радостно играет в сердце кровь,
Желания кипят — я снова счастлив, молод,
Я снова жизни полн — таков мой организм
(Извольте мне простить ненужный прозаизм).
IX
Ведут ко мне коня; в раздолии открытом,
Махая гривою, он всадника несет,
И звонко под его блистающим копытом
Звенит промерзлый дол и трескается лед.
Но гаснет краткий день, и в камельке забытом
Огонь опять горит — то яркий свет лиет,
То тлеет медленно — а я пред ним читаю
Иль думы долгие в душе моей питаю.
X
И забываю мир — и в сладкой тишине
Я сладко усыплен моим воображеньем,
И пробуждается поэзия во мне:
Душа стесняется лирическим волненьем,
Трепещет и звучит, и ищет, как во сне,
Излиться наконец свободным проявленьем —
И тут ко мне идет незримый рой гостей,
Знакомцы давние, плоды мечты моей.
XI
И мысли в голове волнуются в отваге,
И рифмы легкие навстречу им бегут,
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,
Минута — и стихи свободно потекут.
Так дремлет недвижим корабль в недвижной влаге,
Но чу! — матросы вдруг кидаются, ползут
Вверх, вниз — и паруса надулись, ветра полны;
Громада двинулась и рассекает волны.
XII
Плывет. Куда ж нам плыть?
. . . . . . . . . . . .
Информация является ознакомительной.
Фото Яндекс.